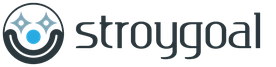Откуда земля сибирская пошла. История христианизации сибири Православие в сибири советское время
23 июня – день важный для сибирской земли. Вся Россия – от западных границ до Владивостока – празднует Собор Сибирских святых. 1984 год. Россия вышла из «брежневского периода», но за окном еще СССР. Однако открытое подавление уже не возможно. Первым признаком будущих перемен является то, что становится возможной подготовка к празднованию 1000-летия Крещения Руси.
И вот, в преддверии этого события, по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Пимена, в Церкви устанавливается почитание великих святых Сибири. Со временем в этом списке появились новые имена – тех, кто пострадал за веру в годы гонений. Отдаленные от нас по времени, и близкие к нам, сибирские святые сияют, как яркое созвездие в сонме святых земли Российской.
Вслед за Ермаком
Преподобный Герман Аляскинский
Не будет преувеличением сказать, что освоение русским населением территории Сибири и Дальнего Востока происходило одновременно с распространением на новых землях христианства. Уже в отряде Ермака было три православных священника. По ходу продвижения «войска» на местах зимовок ставились походные церкви. Главным центром христианского просвещения стал Тобольск – «столица» Сибири. Отсюда во все ее концы уходили священники, неся с собой свет евангельского учения.
В Тобольске же возникла и первая в сибирских краях епархия во главе с митрополитом Иоанном (Максимовичем). Сам Петр I доверил ему «пасти» народы Сибири, и выбор царя оказался на редкость удачным. Митрополит Иоанн оказался тем евангельским пастырем, который вынес на своих плечах трудности первых лет, продумывая все детали церковной жизни. Память об его трудах не ушла с водою времени. Празднование Собора Сибирских святых было установлено в день его земной кончины.
И кормить, и окормлять духовно

Преподобный Макарий (Глухарев), миссионер Алтайский
Трудности, с которыми пришлось столкнуться первым священникам на новых землях, были огромными. Богатейший край был мало освоен. Разбойный люд стекался сюда из центральной России непрерывно. Коренное население составляли, в основном, кочевые народы, процветало язычество. Первое время языческие племена опасались священнослужителей-христиан, и порой, возбужденные речами шаманов, срывались с мест, как перелетные птицы. Сколько же нужно было иметь терпения и любви, чтобы не отчаяться, не сложить руки, а попытаться заслужить доверие людей самой жизнью своей!
Преподобный Макарий Алтайский, например, встретил поначалу далеко не дружественный прием со стороны кочевников-телеутов. Человек он был образованный, знавший и Закон Божий, и языки тюркских народов. Однако прошло немало времени, прежде чем телеуты, видя его доброту и сострадательность к беднякам из других племен – татар, калмыков – убедились в том, что он человек не опасный, а достойный уважения и любви, и приняли из его рук святое крещение.
На плечи священнослужителя ложилось тогда множество забот. Еще не твердых в вере людей было опасно предоставлять самих себе. «Первые ростки» христианской веры могли погибнуть под влиянием языческих культов. Но как удержать кочевников поблизости от церкви, чем напитать их? И о. Макарий стал создавать целые поселения для новокрещеных, приобретая все необходимое для оседлого образа жизни: дома, скот, земледельческие орудия и семена зерновых культур для посева. Для этого он изыскивал казенные средства и почти без остатка расходовал свое жалование. Годами проповедь Евангелия он соединял с обучением бывших кочевников основам культурного земледелия, огородничества и агротехники. Одновременно естественно возникла и потребность обучить людей грамоте. И о. Макарий заложил основы алтайской письменности, создал первый в этих землях букварь.
Понемногу, год за годом «оттаивали сердца» бывших кочевников. Жестокие культы, поклонение ложным богам уходили в прошлое. В сознании возникала связь: «крестьянин» – это христианин , т.е. человек, относящийся с любовью ко всему окружающему, в том числе и к самой земле. И какая благодать возделывать своими руками это Богом данное богатство! Плоды труда – хлеб и елей (т.е. масло) вместе с вином возносятся в церкви в мирную жертву Господу, а в таинстве причастия этот самый хлеб превращается в Тело Христово. Большинство людей жили в удаленный друг от друга поселках или на казачьих заимках, но Церковь собирала всех их под Свои своды. Православный храм был местом просвещения и помощи.

Собор сибирских святых
Менялся облик Сибири. Прежде языческая, кочевая, разбойная, к к. XIX в. она «процвела» уже как укоренено крестьянская, верующая, православная . Православие только и могло противостоять здесь темным сторонам жизни. Сибирь оставалась местом каторги и «вотчиной» шалых людей, но устойчивость жизни, ее здоровье, красоту определяло уже другое: крепкое хозяйствование на земле, освященное верой в Бога, стремление к праведности, исполнение заповеди трудиться и питаться от плодов рук своих. Вера освятила эту землю, изменила души людей, возделав их, как целину.
Молитвенники
Все эти годы в одном ряду с просветителями Сибири, несли молитвенный подвиг и великие сибирские праведники. Плодами их жизни стали дары Святого Духа – прозорливость, дар исцеления. От Урала до русской Америки протянулась череда подвижников.
Юношей пришел из центральной России в Сибирскую страну будущий святой праведный Симеон Верхотурский. Время его – это время смуты в истории России. По русским городам полыхало зарево разгулов, разбойничьи шайки превосходили одна другую в жестокости, а Симеон проводил жизнь отшельническую в посте и молитве, не переставая просить Господа и Богоматерь отвратить от Руси тяжелые скорби. Место своего уединения в небольшом селе Меркушино на р. Туре святой подвижник оставлял лишь для пользы ближних. Видя, как прочно еще язычество, праведный Симеон в простых беседах учил тех, кто недавно принял христианство, его основам, помогал лучше понять суть. Под его влиянием люди оставляли нехристианские наклонности, укреплялись в вере.
В Томске прославился благочестивой жизнью скрытый подвижник – старец Феодор Кузьмич, проводивший земной путь в странничестве и терпении скорбей. Обладал он и даром прозорливости, и молитвой, исцеляющей от недугов. С этим святым связана легенда о том, что под его именем скрывался император Александр I , раскаявшийся в том, что в юности он стал невольным соучастником убийства своего отца и инсценировавший свою смерть в Таганроге для того, чтобы удалиться от мира. Феодор Кузьмич, в самом деле, был необыкновенно похож на «умершего» государя. «Простой старец», одевавшийся в грубую полотняную рубаху, он писал по-французски и обнаруживал знание таких исторических деталей, которые могли быть известны лишь участником важнейших политических событий. Навещали его и члены царской семьи, но тайну свою он так и не открыл никому. После его смерти в келье его была обнаружена икона небесного покровителя Александра I – Св. благоверного князя Александра Невского. А на коленях у подвижника при омовении тела открылись огромные наросты, свидетельствовавшие о многолетнем молитвенном подвиге.
Добрую память о себе оставили в сибирских землях Св. праведные Василиск и Зосима (Верховский). Трогательная дружба связала их на всю жизнь. Из лесов Чувашии принесли эти монахи на р. Томь близ Кузнецка молитвенный дух и традиции иноческого жития, воспитав в Сибири духовных детей и приняв на себя попечение о новом Свято-Николаевском монастыре.
А на островах, прилегающих к Аляске, как яркая звезда, просиял Святой , вышедший из стен древнего Валаамского монастыря. Простой монах, он выдержал суровейшие условия, оказавшиеся неодолимыми для других миссионеров. С 1807 г. он, по существу, стал главой русской духовной Миссии на Аляске. Он крестил, воспитывал духовно местных жителей, и одновременно защищал их от произвола дельцов-промышленников. Сущность своего служения он выразил простыми словами: «Я – слуга здешних народов и нянька». Этот святой стал в России одним из самых ярких примеров беззаветного пастырского служения ближним.
Исповедники
XX век дал Сибири десятки тысяч новых святых – известных и безымянных, пострадавших в годы гонений на Церковь. Сибирь справедливо называют «Русской Голгофой». «Красный террор», жертвами которого стали члены царской семьи и тысячи безвинных людей, завершился созданием на пространствах Сибири огромного лагеря смерти. В СИБЛАГЕ от холода, голода, непосильной работы, от болезней и в топях погибали люди всех национальностей, и среди них – те, кто предпочли верность Богу и чистую совесть – жизни по безбожным законам в сытости и достатке. Эти исповедники веры Христовой вошли в Собор Сибирских святых в белых одеждах мучеников.
О дне сегодняшнем
С утверждением в Сибири советского строя под ударом оказалось крепкое крестьянское хозяйство. Насильственно собранные в совхозы, превращенные в подобие сельского пролетариата, люди не только утратили традиции земледелия, но и чувство ответственности за землю перед Богом. В царское время экспорт лучших в мире сибирских сыров и масел давал России прибыли вдове больше, чем экспорт золота! Теперь когда-то освященная молитвой, крепкая нравственными устоями крестьянских хозяйств земля почти заброшена. «Коммерческое», ориентированное на прибыль, хозяйство не способно исправить положение. Возрождению аграрному, крестьянскому должно предшествовать возрождение христианское . Земля «благоволит» лишь к людям с чистым сердцем. И в день празднования Собора Сибирских святых наследникам этого сокровища – русской Сибири полезно вспомнить об исторической связи: Сибирь прирастала верой.
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
Тульский государственный университет
Кафедра «Истории и культурологии»
РЕФЕРАТ
на тему:
История христианизации Сибири
Выполнил: ст.гр. 720171
Чкунина Д.А.
Проверил: доц. Касаткин Е.А.
Введение
1. Распространение и внедрение христианства
2. Языковые проблемы христианизации
3. Проблема крещения и обращения в православие
4. Образование и медицина, как средство христианизации
5. Влияние христианства на религиозное сознание народов Сибири
Заключение
Библиография
Введение
Моей целью являлось изучение истории христианизации коренных народов Сибири. Если говорить о широких кругах общества, то мнения по этому вопросу здесь, как правило, основываются на стереотипах. Например, в первую очередь вспоминают Ермака, миссионерская же деятельность Православной Церкви здесь малоизвестна и, как повелось со времен строительства коммунизма, характеризовалась она преимущественно как часть колониальной и русификаторской политики царского самодержавия. Такой подход является скорее ущербным, нежели неполным, не только не отражая всех сторон процесса христианизации и его влияния на жизнь аборигенов этого края, но и представляя просветительскую и проповедническую деятельность Православной Церкви в умышленно искаженном вульгаризированном виде.
Как сейчас уже известно, изначально проникновение идей христианства на территорию Сибири могло происходить по двум направлениям: южному, когда один из маршрутов Великого шелкового пути в VI-VII веках стал проходить через территории Южного Казахстана и Семиречья, и северному, с момента открытия новгородскими первопроходцами пути в Зауральскую Югру (о чем можно судить по сообщению в Ипатьевской летописи в 1096 году). Таким образом, начало этого процесса следует датировать на 5-10 веков ранее, чем было принято считать еще недавно. Кроме того, христианизация населения Сибири не началась внезапно, но являлась длительным, долгосрочным процессом.
Другое направление - северное, развивалось с продвижением русских торговцев на северо-восток Азии, поскольку этот край был богат на товары, ценившиеся не только на Руси, но и в Европе (меха, моржовый клык, бивни ископаемых мамонтов). Маршрут русских землепроходцев проходил с р. Вычегды на р. Печору, далее - вверх по реке Щугору, за Урал в бассейн реки С. Сосьвы. Другой, "полунощный" путь вел с Печоры на Усу, затем на Урал в бассейн реки Собь. Этими маршрутами русские путешественники пользовались с 11-го по 17 века.
Контакты с Зауральской Югрой носили разнообразный характер: военный, политический, торгово-обменный, даннический. Есть свидетельства того, что на эту территорию иногда попадали и священники. Так, по летописи, в походе новгородцев за данью 1104 года участвовал и некий поп Иванка Леген, который вполне мог проводить на этих землях проповедническую деятельность.
При раскопках Сайгатинского могильника VI близ Сургута в захоронении был обнаружен равноконечный бронзовый крест, датируемый X-XI веками. Подобные кресты, в том числе с изображением распятий, были широко распространены на Руси и сопредельных территориях.
В процессе христианизации Сибири можно выделить несколько основных этапов. Первый этап является наименее изученным из-за скудости исторического материала, касающегося той далекой эпохи. Скорее всего, на этом этапе процесс христианизации носил региональный характер, когда затрагивались лишь некоторые из местностей Сибири, прежде всего пограничных с Русью. В целом он может быть охарактеризован как растянутый во времени, медленный и малоэффективный, поскольку связи между рассматриваемыми регионами и Русью были еще слабыми. Начало второго этапа христианизации можно датировать временем основания новых приходов, в краткие сроки охвативших значительную часть территории Сибири. В третий этап можно выделить период, когда здесь появились священники и псаломщики, выходцы из местного населения, а также начали печататься на местном диалекте богословские тексты.
1. Распространение и внедрение христианства
Процесс распространения и внедрения в народные массы Сибири и Севера православного христианства составлял одну из важнейших сторон колониальной политики самодержавия. Христианизации населения этого региона политики придавали приоритетное значение как средству ассимиляции язычниками не только православных идей, но и идей русской государственности. Для достижения этой цели использовались различные способы и средства. Сразу же вслед за основанием административных учреждений в Сибири создавались духовные центры, активными проводниками православного вероучения были миссионеры.
Распространению христианства немало способствовали также русские переселенцы. Крестьяне, оседавшие в местах обитания коренных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока, являлись носителями русской народной культуры того времени, неотъемлемой частью которой было православие.
Говоря более подробно об этапах христианизации этого края, можно утверждать следующее.
Первый этап проникновения православия в Сибирь завершился походом дружины Ермака и последовавшим затем строительством первых сибирских городов и острогов. Начиная с 1580-х гг. православные храмы строили в возникавших один за другим в Сибири русских городах: в Тюмени, Тобольске, Пелыме, Сургуте, Таре, Нарыме и др.
Вторым этапом распространения христианства на восток от Урала стало создание в 1620 - 1621 гг. в Тобольске первой сибирской епархии, причем сразу в ранге архиепископии и назначение на нее первого архиепископа -- Киприана (Старорусенина). Этому предшествовало открытие во вновь основанных сибирских городах православных храмов и монастырей.
Одним из инструментов противостояния коррумпированности чиновников на колонизируемых землях Востока России была церковная организация. Руководству сибирской церкви предписывалось осуществлять общую защиту от притеснений местными властями всего аборигенного населения независимо от того, какую веру они исповедовали и собирались ли они креститься.
Открытие Тобольской епархии (а позднее, в 1727 г. и Иркутской), создание новых храмов и монастырей при продвижении на восток дают значительный импульс развитию на местной почве православной литературы, книжности, живописи, архитектуры, театра. Русское население, мигрировавшее в Сибирь сначала преимущественно с Европейского Севера страны, а потом и из других регионов, несло с собою вековые традиции народного православия, иконы, книги.
Вместе с тем значительное число икон и книг для сибирских церквей и монастырей закупалось и доставлялось духовными и светскими властями. Уже первые сибирские архиереи привезли с собой довольно большие библиотеки, немало икон, а также быстро наладили в Сибири книжное дело и изготовление местных икон.
Неоценимый вклад в распространение христианства в Сибири в XVII и первой половине XVIII веков внесли архиепископы Сибирские и Тобольские - Киприан, Макарий, Нектарий, Герасим, Симеон, митрополиты Корнилий, Павел, Димитрий, Иоанн, Филофей. Многие из них были причислены к лику святых земли Сибирской.
В XVII веке политическое влияние России, а значит, и Православия, за короткий исторический срок распространилось от Урала до берегов Тихого океана. Хозяйственное освоение бескрайних земель Сибири шло одновременно с духовным влиянием, приобщением коренных народов Сибири и Дальнего Востока к развитой российской культуре и православной вере.
Третьим этапом духовного освоения Сибири как православной земли следует считать становление института собственных, сибирских святых. В 1642 г. произошло обретение мощей первого сибирского святого -- Василия Мангазейского. В том же году (1642 г.) скончался блаженный Симеон Верхотурский, признанный праведным еще при жизни.
Христианская церковь сыграла огромную роль в становлении Сибири как части российского государства. Уже в XVIII веке началась активная миссионерская деятельность как на северных, так и на восточных и южных окраинах Сибири, которая привела к окончательному распространению и закреплению православия в крае.
Христианизация Сибири носила также просветительский характер. Здесь повсеместно организовывались школы, в которых готовили помощников миссионеров, служителей церкви, переводчиков. Например, при станах Алтайской миссии в 1891 г. было 36 школ, в них обучалось 1153 мальчика и девочки из местных народов. Катехизаторскую школу (готовившую религиозных наставников христиан) при Алтайской миссии в том же году окончили 50 человек. Из них 12 алтайцев, 12 шорцев, 7 сагайцев, 6 черневых (татар), 4 киргиза, 3 телеута, 2 остяка, 1 чуец и 3 русских, «знакомых с инородническими языками». Существовали и духовные семинарии -- так, в г. Якутскедуховная семинария была основана в начале 80-гг. XIX в. В ней обучались преимущественно туземцы.
2. Языковые проблемы христианизации
Естественным процессом, сопровождавшим заселение русскими Сибири, адаптацию последней в составе Российской империи, была русификация. В недалеком прошлом в этом факте пытались узреть агрессивность политики российского самодержавия, так В.Д. Бонч-Бруевич утверждал, что «русский царизм давно уже объявил, что основа его политики определяется тремя словами: самодержавие, православие, народность. Подведение всех инородцев и всех иноверцев к знаменателям «русская народность» и «православие» -- вот задача, осуществить которую неуклонно стремятся хранители заветов русского самодержавия». Тем не менее, нет серьезных оснований утверждать, что имело место широкомасштабное насильственное обращение народов Сибири в христианство, так же как заявлять такую нелепицу, будто все местные народности заставили выучить русский язык.
В то же время новая власть не могла не нести с собой новый порядок, это очевидно для любого историка. Так, еще при Петре I были пересоставлены все службы и порядок чинопочитания так, чтобы жители империи твердо знали, что на небе есть «един бог, а на земле есть и будет един царь». Эти положения сохраняли свою актуальность на разных этапах христианизации народов Сибири, Севера и Дальнего Востока. Преподавание в школах, проповедь христианства, богослужение велись на русском языке. И в то же время предпринимались попытки введения преподавания и даже богослужения на некоторых языках народов Сибири, но из-за чрезвычайной трудности перевода на языки сибирских народностей понятий и значений христианского вероучения серьезного успеха эти начинания не имели. Кроме того, переводы требовали глубоких и всесторонних знаний языков, специальной подготовки переводчиков. Однако никто из сибирских проповедников не был подготовлен в такой мере, чтобы удовлетворительно справиться со столь сложными задачами.
В 1812 г. было основано Русское библейское общество, ставившее своей основной задачей распространение христианства. Это общество, во главе которого стоял князь А. Н. Голицын, обер-прокурор святейшего Синода, действовало под покровительством Александра I и занималось переводом церковнославянских книг на языки народов России, в том числе и на некоторые сибирские и северные.
Помимо центрального отдела Библейского общества в Санкт-Петербурге, в империи существовали его отделения, в том числе и в губернских центрах Сибири. В их состав, кроме местного духовенства, входили представители гражданских властей во главе с губернаторами. Этим как бы подчеркивалось единство некоторых задач, стоявших перед административной и духовной властями. При этом одной из целей такого тесного сотрудничества было недопущение попыток злоупотреблений представителями административной власти в сферах компетенции Церкви.
Отделения были созданы в Тобольске и Иркутске, где по инициативе местных отделов Библия переводилась на языки народностей Сибири и Севера. Так, Тобольским отделением были переведены некоторые части Нового завета на хантыйский и мансийский языки, а также «на сибирское наречие татарского языка». В Туруханске был подготовлен перевод Евангелия от Матфея для тазовских селькупов; для пелымских манси также был сделан перевод Евангелия; были осуществлены переводы на эвенкийский и ненецкий языки. На Архангельском Севере переводом молитв и Библии занимался архимандрит Вениамин. В 1805 г. В Петербурге двумя зайсанами под руководством Я.И. Шмидта Евангелие было переведено на бурятский язык. Иркутским отделение была сделана попытка перевести на чукотский язык «молитву Господню, Символ Веры и Десять Заповедей Божия».
Случались и казусы. В 1820 г. проповедник Л. Трифонов, не зная чукотского языка, привлек для работы чуванца Мордовского и переводчика Кобелева. В 1821 г. было отпечатано уже 100 экземпляров «переведенных» молитв в Иркутской губернской типографии «с дозволения правительствующего Синода». Однако перевод был настолько неудачен, что невозможно было понять не только смысл, но даже отдельные слова. Переводчики лишь слепо следовали русскому тексту, пытаясь перевести слово в слово. Это издание, по-видимому, не имело никакого успеха в деле христианизации чукчей. Пожалуй, вполне справедливую оценку этому труду дал Ф. Матюшкин, наблюдавший применение переводов на практике. «Библейское общество, - писал он, - перевело на чукотский язык десять заповедей, Отче наш, символ веры и, если не ошибаюсь, часть Евангелия; напечатано русскими буквами и прислано сюда, но сей труд не может принести больше пользы. В грубом чукотском языке недостает слов для выражения новых отвлеченных понятий, а русские буквы не могут передать многих звуков».
Дальнейших попыток переводов молитв и Библии на языки народностей Севера в первую четверть XIX в. не предпринимались, а в 1826 г. Русское библейское общество было закрыто и труды его уничтожены. Поводом к закрытию послужили, в частности, переводы Библии и молитв на «нехристианские языки», в чем высшие инстанции усмотрели поругание веры (вследствие искажения некоторых догм вероучения из-за плохого перевода).
Несмотря на это правительство придавало большое значение делу распространения православия среди туземцев, рассматривая это как явление, призванное привести к русификации обращаемых не только по языку, но и по укладу быта. Однако здесь неуместно говорить об экспансии, хотя отдельные злоупотребления имели место (об этом ниже). "Устав об инородцах" 1822 г. утверждал принцип религиозной терпимости. Дело здесь не обошлось без влияния руководителей Русского библейского общества: составитель устава М.М. Сперанский был активным деятелем этого общества.
Несмотря на ликвидацию Русского библейского общества, кое-где на местах миссионеры продолжали заниматься подготовкой переводов Евангелия и молитв, а также составлением букварей для обучения грамоте детей на их родном языке. Синод не препятствовал такой активности миссионеров, особенно в 40-х гг. XIX века, когда осуществились более или менее удачные опыты по созданию букваря, а затем и переводы богослужебных книг на алеутский язык миссионера И.Е. Вениаминова. В то же время Синод подвергал тщательной проверке результаты трудов миссионеров, и все их проекты, составленные грамматики и словари проходили под контролем Академии наук.
Основанная в 1875 г. особая переводческая комиссия в Казани (не без воздействия и поддержки И.Е. Вениаминова, тогда уже московского митрополита) главной своей задачей считала распространение «православно-русского просвещения», используя родные языки обращаемых. Здесь нужно отметить, что не все официальные представители православия разделяли взгляды Вениаминова и его последователей (в частности, Н.И. Ильминского).
3. Проблема крещения и обращения в православие
В 1868 г. по указанию московского митрополита Иннокентия (И.Е. Вениаминова) епископом камчатским, курильским и алеутским был назначен преосвященный Вениамин. Этого служителя Церкви отличали реакционные взгляды, впрочем, в области национальной политики вполне согласовывавшиеся с курсом правительства Александра П. Вениамин был истовым русификатором, уверенным, что «миссия православная по отношению к инородцам есть миссия обрусения». Посему он и полагал, что «крестить желающего можно и прежде уничтожения в нем шаманских воззрений; но болванчиков у крещеного истреблять необходимо, потому что он их сравнивает с иконами; также нужно запрещать ему ходить к шаманам, как русским запрещается ходить к колдунам». Таким образом, он поддерживал крутые меры приобщения к православию «сибирских инородцев».
Далее этот духовный наставник сибирской паствы утверждал, что и просвещение для местного населения необязательно. «По-моему, - говорил он, - общечеловеческое образование полезно только крещеному, христианину с убеждениями, а без этого оно порождает только нигилизм». Все это шло вразрез с суждениями по данному вопросу митрополита Иннокентия. Вениамин откровенно осуждал деятельность И.Е. Вениаминова на Камчатке, где «приобщение новых чад церкви не составляет никакого труда». Так, И.Е. Вениаминов «считал нужным запрещать приглашать язычников креститься, а крестить только тех, которые сами будут искать крещение». Это мнение, основанием своим имевшее исконную позицию веротерпимости Православного христианства, было подкреплено уверенностью в неразумности принудительной христианизации, не могущей дать желаемых результатов. «В прежнее время обращение инородцев в христианство... было чисто внешнее... Совсем другим характером отличается (за последние 30-40 лет) деятельность миссионеров нового времени. Здесь на первый план ставится забота о сознательном усвоении инородцами христианского учения и особенно о христианском воспитании детей, новокрещенных. Поэтому устройство инородческих школ - одна из первейших за6от миссионеров... Теперешние миссионеры старались изучить язык инородцев и на нем излагают евангельские истины и совершают богослужение … Миссии устраивают... больницы, богадельни и пр.»
Здесь же представляется уместным упомянуть об одном из главных препятствий распространению православия - в лице отправителях распространенного здесь культа шаманизма - шаманах. Служители Церкви по-разному боролись с язычеством, иногда особо ревностные служители культа (например, вышеупомянутый Вениамин) подвергали шаманов преследованиям и гонениям, отбирали у них и сжигали бубны, уничтожали различные шаманские атрибуты (шаманское одеяние, тёсы - овеществленные духи). Не лишним будет здесь отметить, что обычно утрата бубна вызывала у шамана сильный стресс, сопровождавшийся обмороком, тяжелым заболеванием, а иногда и смертельным исходом.
Как видим, методы распространения христианства в Сибири варьировались: от моментов попыток принуждения до укрепления устойчивого принципа добровольности принятия крещения.
4. Образование и медицина , как средство христианизации
Школы грамоты «в населении инородческом... принимают на себя все дело христианского воспитания, ибо инородческая, даже, не может дать детям христианских навыков, а напротив, растит их в бытовых и отчасти даже религиозных навыках и понятиях языческих и иноверных. Посему инородческой школе грамоты нужно дать наибольшую возможность религиозно-воспитательного воздействия на своих питомцев, предоставляя им в этих школах, на первых порах, обучаться на родном наречии». По мнению якутского епископа Мелетия, «проповедник Евангелия должен изучать языческие религии... должен говорить их понятиями... Они [язычники] будут видеть в нем не чуждого человека... но человека, близкого к ним, и учение его, примененное к их понятиям, будет казаться им родным. Проповеднику нужно пользоваться и понятиями тех, которым он хочет возвестить слово истины». Повсеместно создавались миссионерские школы, ставившие своей первейшей задачей внедрить в сознание детей христианские истины, этой же задаче были подчинены проповеди и поучения духовенства, обращенные ко взрослым.Кроме того, «белое и черное духовенство православной церкви, - писал В.Д. Бонч-Бруевич, - старается проникнуть всюду и везде, где только возможно, в самые недра народной жизни - в качестве учителя, фельдшера, проповедника, помощника и печальника в горестях и болезнях».
Помимо официальных деятелей православной церкви были и частные миссионерские организации. Одной из самых больших, широко известных организаций, обладавших значительными средствами, было основанное в 1869 г. в Москве Православное миссионерское общество. Членами его состояли духовные лица, светские люди, члены царской фамилии, великие князья и т. д. Этим подчеркивалось, какое значение придавалось миссионерской деятельности в то время. Не было ни одной стороны жизни аборигенов Сибири и Севера, в которую не пытались бы вникнуть служители христианства. «Великий инквизитор», как называли обер-прокурора святейшего Синода К.П. Победоносцева, в конце XIX в. усиленно внедрял среди духовных служителей основы медицинских знаний. Миссионеры снабжались аптечками, чтобы, оказывая туземцам медицинскую помощь, они могли бы еще глубже, с головой окунуться в жизнь народа. Просветительская, проповедническая, миссионерская деятельность Православной Церкви к концу XIX в. достигла широкого размаха: в 1899 г. Церковью издавалось 86 газет и журналов.
5. Влияние христианства на религиозное сознание народов Сиб и ри
Процесс христианизации народов Сибири продолжался несколько веков. Деятельность миссионеров не прошла бесследно, изменив сами устои религиозного сознания коренных обитателей севера и юга Сибири. Туземцы восприняли ряд положений православия, которые слились с их традиционными религиозными представлениями, наслоились на них, создав причудливую картину религиозного синкретизма. В силу определенных исторических условий наиболее полно христианство было воспринято теми народностями, которые помимо официального вероучения непосредственно испытали на себе влияние русских переселенцев. Крестьяне приносили с собой на сибирскую землю новые средства и способы агротехники, ремесла, а вместе с тем и православное вероучение. Заимствуя культуру земледелия, аборигены Сибири переходили к оседлости, перенимали крестьянский образ жизни, бытовые традиции, христианство - на его обыденном (народном) уровне. Этому способствовали также смешанные браки. Трудовой опыт русских земледельцев со всеми его религиозными атрибутами постепенно усваивался народами Сибири. Таким образом, та часть коренного населения Сибири и Севера, которая жила бок о бок с русскими переселенцами, больше приобщалась к православию. Это южные группы манси, хантов, кеты, забайкальские эвенки, южные группы якутов, западные буряты, алтайцы, хакасы, некоторые группы народов Амура и др. В меньшей мере христианство было воспринято теми народами, которые не соприкасались с русскими непосредственно, не испыталипрямого влияния на свои хозяйственные занятия, быт, культуру. К таким народам относится значительная часть кочевых ненцев, нганасаны, северные группы эвенов, эвенков, чукчи, коряки и некоторые другие. Результаты деятельности миссионеров были здесь менее заметны и ощутимы. Однако и здесь имела место ассимиляция населением некоторых христианских догм и представлений, и в первую очередь тех, которые по своей мифологической форме были доступны восприятиюаборигенов.
Некоторые народностиСибири, Севера и Дальнего Востока после включения территорий их проживания в состав многонационального государства в значительной мере утратили свою этническую самобытность, лишившись основ традиционного религиозного сознания. К таким народностям относятся ительмены, алеуты, оседлые чуванцы и ряд других.
Следовательно, влияние христианства на религиозное сознание народностей Сибири, Севера и Дальнего Востока было неравномерным. Отсюда известная пестрота в религиозных представлениях даже среди представителей одной и той же народности, например, северных и южных групп манси, хантов, ненцев, эвенков и эвенов.
Заключение
В данной работе была проведена поверхностная характеристика изучаемого вопроса. Это обусловлено как недостаточной исследованностью данного вопроса специалистами, так и спецификой той формы научной работы, в рамках которой этот вопрос освещался.
В заключении, на мой взгляд, следует указать наиболее особенные, специфичные черты процесса христианизации Сибири.
Прежде всего, необходимо отметить, что процесс христианизации происходил на фоне смешения разных культур, т.е. при взаимопроникновении культур русской и местного населения. Так, например, отмечается большое сходство быта у переселившихся казаков и у аборигенов, в частности, якутов. Казаки и якуты доверяли и помогали друг другу. Якуты помогали им в охоте и рыболовстве. Когда казакам по делам службы приходилось отлучаться на длительный срок, они передавали соседям якутам на сохранение свой скот. Многие местные жители, принявшие христианство, сами становились служилыми людьми, у них появлялись общие интересы с русскими переселенцами, формировался близкий образ жизни.
Другой чертой рассмотренного процесса являлись смешанные браки пришлых с туземками, как крещеными, так и оставшимися в язычестве. Эти браки иногда приобретали массовый характер. Следует иметь в виду, что Церковь относилась к этой практике с большим неодобрением. В первой половине XVII в. духовные власти высказывали беспокойство по поводу того, что русские люди «с татарскими женами смешиваются … а иные живут с татарками некрещеными как есть с своими женами и детей приживают». И хотя Церковь считала, что такие браки подрывают положение православия, но все же в какой-то мере они способствовали укреплению позиций христианства.
Одной из особенностей христианизации Сибири являлся тот факт, что православные праздники начали здесь «смешиваться» с праздниками коренных народов Сибири. Кроме того, при сохранении шаманских верований и принятии нового вероучения широко имел место синкретизм в виде двоеверия.
Можно подытожить, что процесс христианизации Сибири был длительным, неоднородным по срокам и степени интенсивности воздействия идей вероучения на туземцев в различных регионах, и потому оказал различное влияние на народности, населявшие Сибирь. В то же время нужно отметить огромное значение, которое имело это явление для просвещения местных народов, для их приобщения идеям мировой культуры, улучшения быта, оздоровления и включения в число последователей крупнейшей мировой религии.
Процесс христианизации народов Сибири не только облегчил включение и адаптацию этого региона в составе России, но и являлся естественным неизбежным процессом, сопровождавшим взаимодействие двух различных культур.
Библиография
1. ПСРЛ (Полное собрание русских летописей). Т. II. М., 1962. С. 222-223.
2. Массон В.М. Великий Шелковый путь как инструмент экономической и интеллектуальной интеграции // Формирование и развитие трасс Великого Шелкового пути в Центральной Азии в древности и средневековье. Ташкент, 1990.
3. Мамлеева Л.А. Становление Великого шелкового пути в системе трансцивилизационного взаимодействия народов Евразии // Vita Antiqua, 1999. C. 53-61.
4. Зольникова Н.Д. Ранние русские известия об Урале и Зауралье. Строгановы и продвижение к Уралу в 1550-1560-х г.г. Омск, http://frontiers.nsc.ru/article.php?id=1
5. Бахрушин С.В. Путь в Сибирь в XVI-XVII вв. // Научные труды. Т. III. Ч. I. М., 1955. С. 81.
6. Могильников В.А. Обменно-торговые связи Руси и Югры в XI-XV веках // Тобольский хронограф. Вып. IV. Екатеринбург, 2004. С. 120.
7. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Под ред. А.Н. Насонова. М., 1950. С. 40-41.
8. Карачаров К.Г. Христианский крест и славянский нож X-XI вв. из окрестностей Сургута // Русские старожилы. М-лы Сибирского симпозиума III-го "Культурное наследие народов Западной Сибири". Тобольск-Омск, 2000
9. Христианство и ламаизм у коренного населения Сибири (вторая половина XIX - начало XX в.) Л.: Наука, 1979, С. 226.
10. Олех Л. Г. История Сибири: Учебное пособие. - М: ИНФРА-М, 2001.
11. История Сибири. С древнейших времен и до наших дней, в 5-ти томах (Гл. ред.: Окладников А.П.). М.: СО АН СССР. Отд-ние ист. Наук, 1965. - Т. II. Сибирь в составе феодальной России.
12. Гладышевский А.Н. К истории христианства в Хакасии, 2004.
Подобные документы
Распространение и внедрение христианства в народности Сибири. Языковые проблемы христианизации. Проблема крещения и обращения в православие. Образование и медицина, как средство христианизации. Влияние христианства на религиозное сознание народов Сибири.
реферат , добавлен 04.05.2008
История христианства. Истоки и общественно-исторические условия возникновения и распространения христианства. Развитие и распространение христианства. Идеология христианства. Учения христианства. Разновидности христианства.
реферат , добавлен 09.03.2004
Православие: причины, история формирования, количественные показатели и география распространения. Особенности вероучения, культовой деятельности и организации православной церкви. Философия православия: метафизика всеединства, новое религиозное сознание.
реферат , добавлен 16.06.2011
Общественно-исторические условия возникновения и распространения христианства. Идейные предшественники и основы христианства. Споры исследователей о личности основателя христианства. В истории христианства учение Христа неотделимо от Его Личности.
доклад , добавлен 07.05.2008
История возникновения христианства в Европе и Руси. Описание его основных конфессий: католицизма, православия, протестантизма. Особенности их вероисповеданий. Статистические показатели распространения мировой религии по регионам и населению России.
реферат , добавлен 30.01.2016
История возникновения и распространения христианства как мировой религии. Влияние тмутараканского княжества на распространение христианства в западной части Кавказа. Роль генуэзского и венецианского фактория в распространении католичества на Кавказе.
реферат , добавлен 25.11.2013
Существенные отличия христианства от других религий. Причины принятия христианства большинством населения Римской империи. История христианства в средние века. Расколы в период реформаци и контрреформации: лютеранство, англиканство, кальвинизм.
реферат , добавлен 12.04.2009
История религии на территории восточно-православной цивилизации. Сравнительная характеристика православия и католицизма. Структура православной церкви. Молитвы и наиболее известные Святые. Старославянский язык. Взгляд на мир сквозь призму православия.
доклад , добавлен 27.10.2012
Возникновение и развитие христианства. Основные направления христианства. Католицизм. Протестантизм. Православие и основные положения христианства. Основные черты христианской религии. Священное Писание. Священное Предание. Таинства. Соборность.
реферат , добавлен 17.02.2008
Анализ религиозно-мировоззренческих и социокультурных аспектов христианизации раннесредневековой Руси. Основные проблемы взаимодействия христианства и языческих верований в IX-XI веках. История исследования в области русских религиозных древностей.
Организация и деятельность православной церкви в XVIII веке
02-01.
02-02.
02-03.
02-04.
02-05.
02-06.
02-07.
02-08.
02-09.
02-10.
Православная церковь в 1805-1860 годах
03-01.
03-02.
03-03.
03-04.
03-05.
03-06.
03-07.
03-08.
03-09.
03-10.
Православная церковь Восточной Сибири в 1861-1917 годах
04-01.
04-02.
04-03.
04-04.
04-05.
04-06.
04-07.
04-08.
04-09.
04-10.
04-11.
История русского православия - важная составляющая часть истории России. Вера играла заметную роль в духовной жизни народа, она оказала значительное влияние на развитие нравственности, культуры населения, ее постулаты учитывались во внутренней и внешней политике российских правителей, духовенство являлось одним из ведущих сословий страны, способным серьезно влиять на настроения как правящих кругов, так и широких народных масс.
С началом присоединения к России сибирских территорий священники сопровождали казаков в походах, а русские люди, обосновавшись в острогах, заботились об устройстве часовен, а затем и церквей. В Восточной Сибири, тысячами верст отдаленной от столиц, православие тоже было одной из главных сторон жизни русских колонистов, а позже - также и местных народов. Несмотря на это, история православия в дооктябрьской Восточной Сибири до сих пор рассмотрена недостаточно. Авторами данной книги предпринимается попытка раскрыть основные особенности развития православной церкви в регионе до 1917 года.
Прежде всего, следует дать беглый обзор историографии этой темы. До 1917г. был написан целый ряд биографических работ, главным образом об архиереях, книги о миссионерской деятельности; много исторических очерков было опубликовано в епархиальных изданиях. В советский период объективных работ по истории православия региона практически не появлялось, за исключением нескольких книг о "семейских", носивших этнографический характер.
Начиная с 1990-х гг., исследователями проделана большая работа. Издано более 30 монографий и сборников статей, защищено до 20 диссертаций, проведено более 15 научных конференций по данной тематике. Иркутскими авторами изданы книги: Наумова О.Е. Иркутская епархия. XVIII - первая половина XIX века. Иркутск, 1996; Харченко Л.Н. Распространение православной духовной литературы и духовного просвещения в Восточной Сибири (XVII - первая половина XIX вв.): Очерки истории. Иркутск, 2001; Ее же. Миссионерская деятельность православной церкви в Сибири (вторая половина XIX в. - февраль 1917г.). Очерк истории. СПб., 2004. Опубликованы сборники статей и материалов конференций: Из истории Иркутской епархии. Сб. статей. Иркутск, 1998; Апостол Аляски... (Об Иннокентии Вениаминове). Иркутск, 1998; Исторические судьбы православия в Сибири. Иркутск, 1997; Церковь и государство: история и современность. Иркутск, 2005. Этой же тематике посвящены номера журналов: "Земля Иркутская". 2000. №14; "Тальцы". 1999. №1; 2000 №1; 2003. №2.
По истории Забайкальской епархии имеется монография Косых В.И. Забайкальская епархия накануне и в годы первой российской революции. Чита, 1999. Книга А.Д. Жалсараева "Поселения, православные храмы, священнослужители Бурятии XVII - XX столетий. Энциклопедический справочник" (Улан-Удэ, 2001) содержит перечень всех выявленных церквей и служителей культа Бурятии и краткие сведения о них.
В книгах Ф.Ф. Болонева рассматривается история семейских: Семейские (Улан-Удэ, 1992); Старообрядцы Забайкалья в XVIII-ХХ вв. (Новосибирск, 1994); Старообрядцы Забайкалья и Алтая: опыт сравнительной характеристики (Барнаул, 2000).
Успешно разрабатывают проблемы истории православия и в Якутии. Назовем книги Шишигина Е.С. Якутская епархия (Краткий исторический очерк) (Мирный, 1997); Распространение христианства в Якутии (Якутск, 1991); Сафронова Ф.Г. Православие и христианство в Якутии (Мирный, 1997); И.И.Юргановой История Якутской епархии 1870-1919гг. (деятельность духовной консистории) (Якутск, 2003); и ее же Церкви Якутии (краткая история) (Якутск, 2005).
Менее активны по данной тематике исследователи Красноярского края. Здесь можно отметить переиздание в 1995г. книги "Краткое описание приходов Енисейской губернии" (Красноярск, 1917) и большую статью Г.Персианова об истории епархии (Журнал Красноярско-Енисейской епархии, 2000).
Издано несколько трудов, посвященных культовому зодчеству: капитальная монография И.В.Калининой "Православные храмы Иркутской епархии (XVII - начало ХХ века)". М., 2000; Митыпова Е.С. Православные храмы Забайкалья (XVII - начало ХХ вв.). Улан-Удэ, 1997; Петров П.П. Градо-Якутские православные храмы. Якутск, 2000; Туманик А.Г. Крупнейшие православные храмы Сибири. Новосибирск, 1998. Опубликованы работы об иконописи и иконописцах: Крючкова Т.А. Иркутские иконы: каталог. М., 1991; Лыхин Ю.П., Крючкова Т.А. Иконописцы, мастера и художники Иркутска (XVII век - 1917 год). Биобиблиографический словарь. Иркутск, 2000.
Таким образом, мы имеем теперь представление о деятельности всех четырех епархий Восточной Сибири, перечнях храмов на всех этих территориях с привлечением кратких сведений о многих церквях. Опубликованы по двум епархиям списки священнослужителей и церковнослужителей, собраны довольно подробные сведения об архиереях региона, значительные материалы об организации управления церковью, миссионерской деятельности, духовном образовании.
Однако, к сожалению, многим исследователям присущ фактологический подход, редко предпринимаются попытки обобщений, сопоставления особенностей функционирования православной церкви различных местностей, рассмотрения процессов взаимодействия клириков и населения, борьбы и взаимовлияний различных конфессий на территории такого крупного региона, каким является Восточная Сибирь.
Авторы монографии, учитывая, что в судьбах Восточной Сибири с начала XVII в. имелось немало общих черт, связанных с переходом региона под власть России, наличием в нем единого центра управления (сначала - Енисейска, затем - Иркутска) стремятся показать историю распространения православия на восточно-сибирской земле, наметить основные этапы его развития, особенности духовного управления, отношение русского и коренного населения к этой конфессии, состав и особенности белого духовенства, историю монастырей, духовного образования и миссионерского дела. Авторы полагают также, что жизнь старообрядчества, два с половиной века испытывавшего гонения со стороны государства и официальной церкви, также является частью истории православия и поэтому рассматривается в этой книге. Авторы стремятся дать объективную картину жизни церкви, не впадая ни в "обвинительный уклон", как это делалось еще двадцать лет назад, ни в апологетику, что нередко можно наблюдать в наше время.
Вполне естественно, что рассматривая деятельность 6-7 тысяч представителей клира и монашества за три века, их взаимоотношения со светскими и духовными властями, русским и аборигенным населением, трудно охватить все многообразные аспекты развития православия региона. К числу не рассмотренных или рассмотренных только частично относятся сюжеты, связанные с хозяйственной жизнью монастырей, церковными и монастырскими богатствами, культовым зодчеством, иконописанием, деятельностью церкви и населения по охране памятников истории и культуры, краеведческими занятиями духовенства, богословскими проблемами.
Периодизация церковной жизни, как и периодизация истории отдельных территорий страны, или отдельных сфер ее жизни, по мнению авторов, не обязательно должна воспроизводить периодизацию истории России в целом. Учитывая особенности местной истории православия, мы делим книгу на четыре периода, соответствующие новым явлением в жизни духовенства и мирян. Первый - охватывает XVII век, с появления русских в регионе до вступления на тобольскую кафедру митрополита Филофея Лещинского. За это время в Восточной Сибири были построены часовни и церкви, основаны монастыри, началось формирование духовенства. Вторая глава посвящена положению православной церкви в XVIII в. В это время в регионе учреждается вторая епархия в Сибири - Иркутская и Нерчинская, увеличивается количество храмов, открываются духовные школы, изменяется экономическое положение монастырей, перераспределяются полномочия приходских общин и церковной администрации. 1805 год открывает новый этап: решение Синода о канонизации первого общерусского сибирского святого Иннокентия сразу же подняло авторитет Иркутской епархии, ее центра - Иркутска, и Вознесенского монастыря, который вскоре был переведен в 1-й класс и стал объектом паломничества. 1861 год стал началом новой эпохи не только для России в целом, но и для восточносибирской церкви. Одна за другой учреждаются новые епархии (Енисейская, Якутская, Забайкальская), монастыри остаются без обязательных работников, изменяется положение духовенства, а в дальнейшем и социально-политические условия деятельности церкви.
Алакаева А.И. (Салехард)
Хотя первые русские люди появились на территории Обского Севера еще в XI веке, но лишь в XVI в. переселенцы составили существенную часть проживавшего там населения. Московские служилые люди основывали поселения, остроги, городки в Березовском крае, которые играли важную роль как опорные пункты для дальнейшего продвижения на Север. Тогда же они начали и строительство культовых зданий. Первой православной церковью на Обском Севере была Воскресенская церковь, заложенная в Березове в 1593 г. Чуть позже на реке Полуе был заложен острог Обдорск, где тоже построили храм.
Первые православные храмы обслуживали духовные потребности русских переселенцев, поскольку окружающее их население исповедовало свои древние религиозные традиции. Но все же можно считать, что именно с этого времени начинается постепенное знакомство самоедов (ненцев) с христианством. Поначалу очень немногие из них принимали эту непонятную для них религию. Но это не смущало первых православных священников, которые надеялись на увеличение своей паствы за счет крещения «инородцев». Тем более, что согласно указу Бориса Годунова от 1600 года было «велено строить церкви для новокрещеных инородцев» .
В первой половине XVII века случаи крещения местных жителей были единичны, и связаны были обычно с приездом «остяцких князей» в Москву для встречи с царем и подтверждения права на власть над своими соплеменниками.
В 1620 г. в Сибири была учреждена самостоятельная епархия - Тобольская. Первым епархиальным архиереем был архиепископ Киприан. Отправляясь на новое назначение, он получил от патриарха Филарета не только знаки духовного управления - жезл и серебряный крест, но и заповедь «заботиться о чистоте нравов завоевателей и русских пришельцев и обращать к Христу диких идолопоклонников и магометан».
В начальный период христианизации в верховьях Оби, как правило, православные священники появлялись здесь наездами, и крещение инородцев совершалось по их волеизъявлению. На это обращалось внимание и в указе царевны Софьи от 1685 года, наставлявшем: «буде которые иноземцы похотят креститься в православную христианскую веру волею своей и их велеть принимать и крестить, а неволею никаких иноземцев крестить не велеть».
В описании Тобольской губернии указывается, что «в течение всего XVII века были отдельные случаи, когда князья остяцкие, ездившие в Москву, принимали со своими семействами православие и по возвращении строили у себя церкви, но об обращении простого народа не осталось никаких указаний» .
Такая вероисповедная политика правительства в отношении коренного населения Северо-Западной Сибири сохранялась вплоть до конца 90-х годов XVII в., пока на царский престол не взошел Петр I.
В конце XVII века Петр I издает указ, в соответствие с которым крещение аборигенов «дозволялось» исключительно государственной Православной церкви. Миссионерское дело возлагалось на Тобольскую епархию. В 1700 году Петром I был поднят вопрос о назначении на эту кафедру иерарха «не только доброго и благого жития, но и ученого, дабы он, будучи митрополитом в Тобольске, мог, Божиею помощью, исподволь, в Китае и в Сибири, в слепоте идолослужения закоснелых человек приводить в познание истинного Бога» .
Из многих кандидатур был отобран монах Киево-Печерской лавры Филофей Лещинский. В 1702 году он был рукоположен и посвящен в митрополита Сибирского. Дважды ему суждено было занимать эту кафедру: в 1702–1709 гг. и в 1715–1720 гг. Повинуясь императору, митрополит Филофей с особым усердием отдавался миссионерскому делу.
В конце 1706 года появился первый Петровский указ о массовом крещении северообских народов. Указ повелевал Филофею ехать по юртам, жечь языческих идолов, на местах кумирниц строить церкви и часовни, крестить жителей «от мала до велика». Однако заметных успехов этот первый миссионерский опыт не имел. Число новообращенных было незначительным. Более того, ненцы, ханты и манси отказывались принимать новую веру, а кое-где православных миссионеров силой изгоняли.
Распространению идей христианства по Западной Сибири и крещению сибирских инородцев уделял внимание и Сибирский губернатор князь М.П. Гагарин. Он материально и организационно поддерживал миссионерские поездки митрополита. Предоставляя ему необходимое число людей, в том числе и вооруженную охрану.
С помощью властей митрополит Филофей в 1712 году предпринял миссионерское путешествие по рекам, на берегах которых обитали «инородцы». В этот раз в экспедицию вошло «судно гребцов, толмачей, знающих остяцкий язык и наречия, около 10 казаков, для охранения миссии, 2000 рублей, достаточное количество вещей разного рода для подарков новокрещенным, и предварительно разослал предписания местным властям о содействии миссии в достижении святой цели».
В июне судно митрополита вышло из Тобольска вниз по Иртышу и, войдя в Обь, стало останавливаться почти во всех местах, где были остяцкие жилища. Первое что делали миссионеры - истребляли предметы идолослужения. От Тобольска и до Березово, сокрушались идолы, пылали кумирни и истреблялась их утварь. Это делалось во исполнение Государева указа, по которому Филофею предписывалось «ехать во всю землю вогульскую и остяцкую и в Татары, в Тунгусы и в Якуты, и в волостях, где найдете их кумиры и кумирницы и нечестивые »их чистилища«, и то… пожечь, а их, вогуличев и остяков…, Божиею помощью и со своими труды приводить в Христианскую веру, и о том явить им словесно и сей наш указ сказать».
Во все время своего возглавления Тобольской епархии Филофей регулярно совершал миссионерские поездки по территориям, населенными инородцами, пытаясь привлечь их к новой религии - православию. В своих обращениях и проповедях он увещевал слушателей, доказывал силу и могущество христианского Бога, и слабость бога языческого. В одной из хранящихся ныне в архиве записей его проповеди говорилось: «истинный Бог-дух не видим, а Ваш бог не более, как дерево. Истинный Бог, есть Творец всего, а Ваш бог сделан Вашими руками. Истинный Бог промышляет обо всем и благотворителен к имущим его, а Ваш бог только разоряет Вас требованиями себе на жертву, не только нельмы и других рыб, но и лошадей, которые в Вашем месте и при Вашем состоянии дороги» .
Повсеместно на территории племен, крещенных Филофеем, устанавливались церкви, монастыри, церковные школы, поселялись православные священники. Не всегда дело православной проповеди осуществлялось мирным путем. Иногда ненцы выступали в защиту своих богов и нападали на миссионеров.
К 1720 г. значительная часть населения Северо-Западной Сибири была крещена. В благодарственной грамоте митрополиту Филофею Петр I благодарил его за успешное крещение «вогулицкого, остяцкого и кыштымов родов, числом более 40 тысящ и более». С его смертью в 1727 году миссионерская деятельность в Сибири на долгие годы ослабла. Один из крупнейших знатоков истории сибирских духовных миссий Н. Абрамов писал, что «ему не нашлось подражателей среди сибирского духовенства, а равным образом и преемники Петра далеко не с таким вниманием относились к распространению христианства в Сибири» .
Но все же и в последующие десятилетия бывали случаи крещения местного населения. Стремясь увеличить число лиц, принимавших православие, в 1751 году в подтверждение прежних указов было подтверждены экономические привилегии для этой категории. В частности, они освобождались от уплаты ясака на 3 года, и каждому вновь крещеному остяку или остячке бесплатно выдавалось платье и белье из казны.
Продолжалось и строительство церквей. В 1745 году, при митрополите Тобольском и Сибирском Антонии II (Нарожницком), в Обдорске была заложена церковь Петра и Павла, освященная в 1751 году. На причте этой церкви лежала задача обращения в христианство приобдорского населения и «утверждение в вере уже принявших православие». Особой миссионерской должности при церкви предусмотрено не было.
В 1789 году миссионерская деятельность в Обдорском крае была полностью прекращена. По свидетельству автора «Истории Обдорской миссии» иеромонаха Иринарха это случилось «вследствие одного волнения между инородцами восточной части России по случаю разжигания между ними слуха, что их хотят крестить насильно, действия проповедников постановлением Правительствующего сената были остановлены. С 1789 по 1825 гг. никаких мер по поддержанию и развитию миссионерства предпринимаемо не было» .
Новый период в истории христианского миссионерства в Обдорском крае начинается в 20-х годах XIX столетия: в 1822 году был принят «Устав об управлении инородцами», который более не допускал применения насилия при крещении народов Севера; в 1826 году Святейший Синод выпустил указ «Об обращении инородцев в христианство», предполагавший проведение миссионерства на планомерной основе. Оба эти акта реализовывались в Тобольской митрополии усилиями правящего архиерея, приходского духовенства и миссионеров.
В частности, немало сил приложил к исполнению указа Синода назначенный в 1829 году на Тобольскую кафедру архиепископ Евгений (Казанцев). Прежде всего, он предпринял поездку в Обдорск. Здесь его крайне разочаровало состояние миссионерства. Выяснилось, что многие из остяков, хотя ранее и принимали христианство, и называли себя православными, на самом деле «не только не имеют понятия о началах христианской религии, но даже не знают имени Иисуса Христа и пребывают в идолопоклонничестве».
В 1832 году на Тобольскую кафедру был назначен архиепископ Афанасий, который также уделял особое внимание миссионерству на севере своей митрополии. По его распоряжению в Обдорск был направлен ранее прибывший из Калужской губернии иеромонах Макарий (Боголепов).
Миссия Макария продолжалась всего лишь 8 месяцев, с июля 1832 г. по март 1833 года. За это время им было обращено в православие лишь 17 человек. По свидетельству Макария, миссионерская работа в Обдорске была возможна только в период январской ярмарки и сбора ясака, когда съезжались представители различных племен. «После, - писал Макарий, сыскать их весьма неудобно» .
Находясь в Обдорске, Макарий столкнулся с противодействием местного князя, который «никому не подает совета креститься: чрез это немалая трудность предлежит приводить их в христианскую веру». Особые препятствия встретил Макарий и его помощники при попытках обращения в православие ненцев, приезжавших сюда с Ямала и из соседних с ним районов. В своем рапорте Макарий предположил на основе разговоров с ними, что многие, «узнав от некрещенных остяков, что в Обдорске миссия, и по пронесенным между ними слухам, будто быв в Архангельской губернии миссиею тамошние самоеды крещены насильно, полагали, что и в Обдорске их насильно крестить будут, не хотели даже являться в Обдорск для положения ясака». Кроме того, с точки зрения Макария, большой проблемой является и то, что «язык их весьма недостаточен для объяснения истин христианской религии, от чего и крещеные остяки никакого почти понятия не имеют об оной». В силу этих причин, а также по «слабости здоровья» по собственной просьбе, Макарий был уволен с поста миссионера. Вскоре в Тобольск возвратились и его помощники.
На этом недолгая история миссионерства иеромонаха Макария закончилась, а вместе с этим и деятельность самой Миссии. Однако ее юридическое упразднение последовало лишь в 1836 году. Синод в своем постановлении отметил, что в Обдорске, по неимению в виду довольно способов и надежд, до времени не учреждать миссии (не назначать туда специального миссионера), а назначать туда священника, который своей жизнью, своим обращением привлекал бы к себе инородцев и, крестя по крайней мере немногих из них, приготовлял бы почву к будущему просвещению сего племени«.
Уже упомянутый Иринарх главной причиной неудачи миссии Макария счел то обстоятельство, что его действия носили несистематический характер, а используемые при этом методы оказались неподходящими для Севера. Эпизодические встречи с аборигенами не могли оказать на них практически никакого влияния; незнание языка, местных нравов и традиций также отвращало от миссионера местное население. «Миссионеры, - писал Иринарх, - вступая в духовную борьбу с язычеством, должны были вступить в борьбу и с полярной природой. Естественно, что, отправившись благодетельствовать с одним только посохом в руках, миссионеры признали себя бессильными борцами» .
Тем не менее, один из этих «бессильных борцов» Лука Вологодский, выпускник Тобольской духовной семинарии, помощник иеромонаха Макария, следуя постановлению Синода, в течение двух лет успешно трудился на ниве миссионерства. Но в 1839 году, после получения известий о волнении среди «самоедов», архиепископ Афанасий ужесточил правила крещения. Он предписал лицам, желающим быть причисленным к Православной церкви, являться в Тобольск или Березов. Это, безусловно, чрезвычайно осложняло возможность роста числа «новых православных», делало его почти невозможным.
Таким образом, первые два с половиной века истории миссионерской деятельности в Обдорском крае принесли мало утешительного для православия. Немногочисленно было количество крещенных из «инородцев». Православие не утвердилось в местах проживания аборигенов.
С прекращением миссионерской деятельности иеромонаха Макария (Боголепова), начальника Обдорской миссии (1831г.) и окончанием пребывания в Обдорске Луки Вологодского, проповеднические обязанности в Обдорском крае исполняла основанная в 1836 году миссия при Кондинском монастыре. Однако большие расстояния до Обдорска и далее на север, плюс недостаток миссионеров делали ее действия малоэффективными.
В 1847 г. состоялась ревизия министерства Государственных Имуществ в Сибири, в том числе по вопросам вероисповедным. В Синод были представлены результаты ревизии. Они оказались весьма неутешительными. Так выяснилось, что:
o число церквей в Сибири не соответствует территории и количеству жителей;
o духовенство уровнем образования и поступками не соответствует своему сану и назначению;
o между сибирскими «инородцами» широко распространено шаманство.
Синод предписал архиепископу Тобольскому Георгию (Ящуринскому) устранить замечания министра Государственных имуществ о состоянии православных церквей и духовенства, а также насчет «последователей шаманства».
В 1848 году Тобольская духовная консистория на своем заседании разбирала вопрос о создании особой Обдорской миссионерской церкви для распространения и проповедования христианства «самоедам-язычникам». Предполагалось учредить при ней походную церковь для проповеди в местах кочевий ненцев, что позволяло бы «лучше узнать инородцев, войти к ним в доверие». Миссионер был обязан изучать местные языки, домашний общинный быт инородцев, их ремесла, поверья, привычки и необходимые жизненные условия. Примечательно, что миссионерам не рекомендовалось вступать в брак в течение минимум пяти лет, учитывая суровые условия края и постоянные переезды. Чтобы избежать обвинения в мздоимстве священнослужителей, предписывалось требы совершать безвозмездно.
Однако Синод весьма холодно отнесся к предложениям Тобольской митрополии. Он не разрешил учреждать новые миссии, ссылаясь на волнения среди «самоедов», имевших место в 1839 и в 1841 годах, которые, как предполагалось, произошли из-за действия духовенства.
Подготовительным шагом к созданию собственно Обдорской миссии послужило назначение на должность священника Петропавловской церкви Обдорска, молодого, только что окончившего семинарию Петра Попова, которому суждено было сыграть большую роль в истории православия в крае. Огромное преимущество заключалось в том, что, являясь уроженцем Севера, Попов был привычен к местным условиям и знаком с языком коренного населения. Его первым шагом стало учреждение школы при церкви, где обучалось несколько мальчиков-детей коренных жителей.
Вскоре на пост Тобольского губернатора был назначен Г.Н. Гасфорт. Уже в ходе своей первой инспекторской поездки в Обдорск и по прилегающим к нему территориям, он пришел к мнению о необходимости усилить дело «христианского гражданского просвещения». По его мнению, оживление православия, его утверждение среди аборигенов должно было способствовать «уничтожению вредной для развития края обособленности и замкнутости инородцев». Кроме того, участие миссионеров в распространении грамотности среди населения могло оказать, как считал губернатор, - «существенное влияние на успех поднятия их (хантов и ненцев) из этого жалкого положения, в каком, благодаря своей неразвитости, они очутились в столкновении с относительно развитыми русскими колонистами».
Таким образом, светская и церковная власть оказались едиными во мнении об устроении в Приобье специальной Миссии для работы среди ненцев и других коренных народов. Заручившись поддержкой губернатора, Тобольский архиепископ Евлампий (Пятницкий) отправил в Синод предложение об открытии миссии в Обдорске при местной церкви. Соответствующий указ последовал в 1853 году. Согласно указу ставилась задача «обращения в христианскую веру необращенных заобдорских остяков и самоедов, живущих по берегам Ледовитого океана. /Для чего - А.А./ необходимо послать в эти кочевья приспособленных миссионеров, знающих различные между собой идиомы языков остяцкого и самоедского, которые бы жили и перекочевывали с народом и, имея легкие подвижные престолы, совершали бы упрощенные церковные обряды, старались бы вообще инородцам сделаться полезнее» .
Здесь впервые появляется мысль о постройке походных церквей, что при проповеди в среде кочевого и полукочевого населения было единственным выходом.
Во исполнение Синодального указа Тобольская духовная консистория выпустила свой собственный, в котором, прежде всего, обратила внимание на то, что «некрещеные остяки и самоеды есть только в приходе Петропавловской церкви, стоящей вниз по течению Оби, самой последней к Ледовитому морю и живущие здесь некрещеные инородцы постоянного жительства не имеют». Исходя из этого, была учреждена должность миссионера Обдорской церкви, в обязанность которого входили постоянные разъезды по «чумам инородцев» и их обращение к христианской вере. Одновременно и на приходского священника также были возложены отдельные миссионерские обязанности. Таким образом, предполагалось, что священник и миссионер поочередно будут выезжать в миссионерские поездки. И вместе с тем, всегда кто-то будет проживать в Обдорске при церкви, будет совершать необходимые миссионерские действия, особенно в период массового приезда «инородцев» в поселок для сдачи ясака.
Первым в 1855 г. должность Обдорского миссионера занял Дмитрий Попов, уже зарекомендовавший себя вдумчивым пастырем и миссионером. По определению министерства финансов ему полагалось особое жалованье - 200 рублей в год, что равнялось жалованью старшего священника.
Одновременно было отпущено 2300 рублей на постройку походной церкви, которую соорудил местный мастер в том же году. В «Истории Обдорской миссии» она описывается следующим образом: «Церковь эта представляет палатку из ревендута с ревендутной такой же крышей, на железных дугах, удобно расположенных по местам, где предположено совершать в ней богослужение; вся с алтарем длиной 15 аршин, шириной 6 аршин (приблизительно 11 метров на 4.5 метра). В ней иконостас из легких складных брусков, иконы как в нем, так и в алтаре, писанные на полотне, все на подрамниках, вместе с иконостасными брусками, окруженных зеленым цветом; всех икон живописных 14»" .
Из предыдущего опыта общения с инородцами было известно, что на них особое волнующее воздействие оказывают живописные изображения. Поэтому в походной церкви было много икон: «Тайная вечеря», «Спаситель, сидящий на престоле», «Архангелы Михаил и Гавриил», «Четыре Евангелиста», «Святая Троица», «Спаситель и Божья Матерь», «Апостолы Петр и Андрей Первозванный». В распоряжении миссионера было много красочных картинок на Ветхозаветные и Новозаветные темы.
Но довольно быстро выяснилось, что перемещать и возводить на каждой стоянке походную церковь было делом чрезвычайно трудоемким. Пришлось отказаться от идеи перевозки ее с помощью оленей. Отныне походную церковь доставляли на стойбища только в летнее время, водным путем, на лодке.
Для зимних поездок Миссия приобрела в 1857 году 100 оленей, нарты и чум. Численность стада быстро росла, достигнув в 1870 году 466 голов. В последующем олени использовались для получения средств на содержание церковной школы и неимущих учеников.
В 1864 году архиепископу Феогносту поступило предложение из Управления Тобольской губернии о целесообразности учреждения при Обдорской миссии должности особого священника, который должен был постоянно проживать среди самоедов и вести на стойбище миссионерскую работу. В своем ответе в Управление Попов указал, что, поскольку поездки к самоедам «очень затруднительны», то единственная возможность общения возникает лишь при посещении ими Обдорска в зимние месяцы для сдачи ясака. А этого явно недостаточно для успешной христианской проповеди и в силу этого предпочтительнее иметь в стойбище постоянно действующий «миссионерский стан».
В 1865 г. наконец-то последовал указ Синода, предписавший учредить «особую миссию в низовых кочевьях самоедов для водворения христианства и развития в них стремления к образованию и оседлости».
В том же году П. Попов предпринял специальную поездку по районам предполагаемого размещения новой миссии и выбрал два пункта около Хаманельского мыса (Ямал) и на месте впадения рек Пура и Таза в Обскую губу. Здесь же нашлись и несколько домов для поселения миссионера и размещения маленькой церкви. Через два года последовал указ Синода об учреждении при Обдорской миссии двух станов - Обдорского и Тазовского; настоятелем последнего стал иеромонах Иринарх, прибывший из Соловецкого монастыря.
В соответствии с указом Синода, Обдорский стан действовал по левому берегу Обской губы, включая территорию «каменных самоедов», тогда как Тазовский - по правому берегу вплоть до границ Енисейской губернии, на территориях расселения хантов и ненцев.
Таким образом, в результате всех принятых синодальных указов и решений епархиального начальства Миссия была устроена следующим образом: два миссионера должны были находиться в постоянных разъездах, а третий пребывал в Обдорске, где исполнял функции приходского священника и одновременно миссионера для приезжавших туда аборигенов.
В поездках по местам кочевий миссионеры, с одной стороны, обслуживали религиозные потребности уже крещенных самоедов и хантов, а с другой, несли евангельскую весть тем, кто исповедовал языческие верования. Территория, за которую была ответственна Миссия, была столь огромной, что поездки превращались многомесячные трудные путешествия на оленях, лодках вслед за кочующим местным населением. Можно выделить четыре главных направления, по которым совершались миссионерские путешествия: по правую сторону Оби до Гыданского полуострова; на северо-запад до Байдарацкой губы, на север - на полуостров Ямал, и на юг- вверх по течению Оби. Наиболее частыми были поездки по первому из указанных маршрутов, так как это позволяло использовать водный путь. В зимнее время в Обдорск съезжались ханты и ненцы для сбора ясака и на ярмарку. Тогда и миссионерская работа сосредотачивалась в основном здесь.
Обстоятельства сложились так, что прибывший в сентябре 1867 года в Обдорск иеромонах Иринарх в Тазовский стан не попал и в 1869 г. покинул поселок. Одновременно с приездом Иринарха поменялся весь состав Обдорской миссии. Вместо Дм. Попова прибыл А. Тверетин. П. Попова в 1868г. заменил Н. Герасимов - ненец из рода Югон-Пелик, выпускник Тобольской семинарии, куда попал по протекции П. Попова после окончания его школы в Обдорске. В 1870 году А. Тверетина сменил Н. Платонов. В 1869 году настоятелем Обдорской миссия становится игумен Аверкий, бывший в 1850-х годах членом Кондинской миссии он вызвался добровольно стать миссионером Тазовского стана, но в консистории решили по другому - Аверкий был назначен настоятелем, а Герасимов, как выходец из местных жителей, стал миссионером Тазовского стана, где и провел пять лет.
О том, как проходили миссионерские объезды подведомственной территории, мы можем судить на примере летнего маршрута путешествия А. Тверитина, настоятеля Обдорской миссии, выпускника Тобольской духовной семинарии, свершенного им в 1868 году. Оно продолжалось с 11 июня по 17 августа, и пройдено было более полутора тысяч верст. В состав экспедиции входили, кроме самого Тверитина, его помощник - причетник, «вожак» (проводник) и пять рабочих, управлявшихся с большой лодкой и помогавших при установке походной церкви. Тверитин дошел по правому берегу Обской губы до Тазовского стана, останавливаясь, если позволяла погода, в том или ином кочевье до трех суток. Раскладывалась походная церковь, проводились беседы с жителями на предмет их вероисповедания и возможного принятия христианства. В своем отчете Тверитин оставил много колоритных описаний подробностей путешествия. Здесь и «тучи комаров и еще более страшная мошка», и беседы с ненцами и хантами, раскрывающие специфику их понимания христианской религии, и «сильный противный боковой или встречный ветер», из-за которого они иногда по несколько дней не могли сдвинуться с места. В ходе поездки было установлено, что во многих кочевьях никогда не были ни миссионеры, ни «гражданская власть». Как правило, миссионер останавливался в одном и том же родовом стане дважды - когда шел вниз по Оби и на обратном пути по тому же маршруту. В этот раз, дойдя на обратном пути до местечка Хэ, экспедиция переправилась на Ямальский берег, до Хаманельского мыса, и оттуда отправилась обратно в Обдорск, но уже по левому берегу Оби. Этот маршрут впоследствии стал типичным для преемников Тверитина по Миссии.
В 1870-х годах Миссия, по мнению епархиального начальства пришла в совершенно расстроенное состояние. Главным признаком этого были постоянные смены членов миссии - многие задерживались в Обдорске не более чем на полгода. Только Аверкий пробыл на посту настоятеля двенадцать лет, но из-за преклонного возраста совершать миссионерские поездки уже не мог. По его инициативе в 1880 году открыли молитвенный дом в «юртах Шурмикарских». В 1882 году он предлагал учредить миссионерский стан на реке Шуге в «местности Наре», где в зимние месяцы, как он писал, «наблюдается наибольшее скопление инородцев». Но церковные власти в Тобольске положительного решения не приняли.
Миссионеры выражали недовольство небольшим жалованьем, его повышение в 1865 году до 500 рублей они считали явно недостаточным. Крайне затруднительным было и выполнение предписания причту походной церкви, по которому необходимо было проводить в поездках минимум по полгода, что для непривычного к Крайнему Северу человека было часто невозможно. Один из миссионеров, прибывший из Европейской России, и вскоре запросившийся назад, так и писал в своем прошении об отставке: «не зная броду, сунулся в воду».
Первым и последним миссионером Тазовского стана был Николай Герасимов. Он прослужил здесь пять лет, терпя лишения и преодолевая трудности. Как оказалось, подаренная Миссии мещанином Минеевым изба представляла собой «полуземлянку, в высшей степени вредную для здоровья, кроме которой жить негде». К тому же на пути в стан миссионера сопровождали немалые опасности, так как «тысячи верст нет никаких селений. Зимой морозы достигают сорока градусов, что сопровождается ураганным ветром, так что нельзя выйти даже дров порубить». Если прибавить к этому, что Герасимов имел семью, и одно из его путешествий продолжалось с сентября по декабрь, то неудивительно, что, в конце концов, и он подал прошение об увольнении. После него там больше никто не жил, и стан был окончательно заброшен.
С 1882 г. по 1891 г. настоятелем миссии был В. Чижицкий. Членами миссии: Г. Берингов (до 1886 г.) и В. Чегаскин (хант). В 1891 году настоятелем миссии становится С. Милавский, который менее чем через год был уволен за свое скептическое отношение к перспективе «обращения в христианство инородцев».
С начала 1890-х годов и до начала XX-го века в Миссии активно работал И. Егоров, диакон, переводчик и учитель миссионерской школы (хант).
В 1898 году настоятелем Миссии становится иеромонах Иринарх. При нем осуществилась идея открытия миссионерского стана в поселке Хэ, прямо напротив Хаманельского мыса. С этого времени постоянно один из миссионеров находился там, совершая путешествия по берегам Обской губы и на Ямал. По «Справочной книге Тобольской епархии» за 1913 год настоятелем Миссии в это время был игумен Иннокентий, членами - иеромонах Никон и священник А. Крыжановский. Последним известным членом Обдорской миссии был священник о. А. Шихалев, работавший в 1919 году.
Следует отметить, что на рубеже XIX-XX вв. на Обдорский Север устремились многочисленные научные экспедиции. Нередко в их состав включались и представители Миссии, которые получали возможность миссионерского «разведывания» и знакомства с местным населением. Усиление внимания к проповеди на Ямале было связано с тем, что Ямал оставался последним крупным регионом в Тобольской епархии, где «инородцы» составляли подавляющее большинство населения.
В 1908 г. на полуострове Ямал побывала экспедиция Императорского Российского географического общества под руководством Б. Житкова. Одним из членов этой экспедиции стал священник Мартиниан Мартемьянов. Он был прикомандирован к экспедиции для знакомства с жизнью ненцев на местах их летних стоянок. Мартемьянов оказался полезен экспедиции как второй переводчик и помощник во всех работах. После поездки он сообщал, что миссионерской работы непосредственно на Ямале не ведется, и что сам он проповедью там не занимался.
К сожалению, полными и точными сведениями о прекращении деятельности на Обском Севере различных церковных организаций и учреждений мы не располагаем. Например, по Акту с перечнем фондов церквей, хранящемся в окружном архиве (г. Салехард), известно, что на территории автономного округа прекратили свою деятельность:
Хэнский стан - в 1918 г.
Обдорская миссионерская церковь - в 1916 г.
Обдорская церковно-приходская школа - в 1916 г.
Обдорский миссионерский приют - в 1902 г.
Березовская церковно-приходская школа - в 1910 г.
Вместе с тем, по сохранившимся разрозненным архивным документам можно говорить, что еще и в начале 20-х годах миссионерский стан в поселке Хэ действовал и, следовательно, церковная жизнь осуществлялась. Известны предписания Хэнского сельревкома местной церкви с разрешениями на проведение крестного хода, крещений и похорон. Вскоре Хэнский стан, как, видимо, и вся Миссия, вынуждены были прекратить свою работу.
Говоря об итогах деятельности Обдорской духовной миссии, следует признать, что ей не удалось привлечь в православие сколь-либо значительное число представителей коренного населения Крайнего Севера. За 25 лет, с 1872 по 1897 год, были крещены по официальным данным 2734 человека. В среднем в год крестилось от 100 до 200 человек; самым удачным был 1888 год (295 человек), и самым неудачным - 1882 год, когда было крещено всего лишь 16 человек.
И все же христианство оказало влияние на религиозные представления и традиционную обрядность аборигенов. В процессе проникновения православия в течение нескольких столетий в духовную жизнь аборигенов сложился своеобразный религиозный синкретизм, или двоеверие. Это выражение сами миссионеры наиболее часто использовали, когда говорили о состоянии православия в Обдорском крае, считая при этом, что перевес в этой паре не за православием, а за традиционными верованиями. Но отдельные положения, так или иначе связанные с христианством, в местной культурной среде все же закрепились. Во-первых, очевиден тот большой авторитет, который имела в глазах коренного населения края фигура святого Николая Чудотворца. Причин тому можно назвать несколько: здесь и влияние народного русского православия, чтившего этого святого; и действия самой Церкви, которая во множестве строила на Севере Никольские храмы; и своеобразная «приземленность» этого святого. Элементы христианства закрепились и во внешней культовой атрибутике, во внутреннем, духовном мире коренного населения Ямала. У многих групп аборигенов появились обряды крещения, венчания и отпевания. Хотя в целом семейная обрядность аборигенов все же сохранила свои традиционные черты.
При рассмотрении вопросов миссионерской деятельности дореволюционного российского православия, следует обратить особое внимание на правовую базу вероисповедной политики государства. Прежде всего отметим, что в законодательстве утверждался принцип веротерпимости при твердом господстве православного исповедания. В Основных законах Российской империи провозглашалось: «Первенствующая и господствующая в Империи вера есть Христианская Православная Кафолического Восточного исповедания. Но и все не принадлежащие к Господствующей Церкви подданные, также иностранцы, состоящие в Российской службе или временно в России пребывающие, пользуются повсеместно свободным отправлением их веры и богослужения по обрядам оной; сия свобода веры присвояется не только Христианам иностранных исповеданий, но и Евреям, Магометанам и язычникам».
Но только православная церковь имела право в пределах государства убеждать не исповедующих православие к принятию этой веры. О православной вере в законе говорилось: «Сия вера поддерживается благодатию Господнею, поучением, кротостию и более всего добрыми примерами». Исходя из этого господствующая церковь не могла позволить себе «ни понудительных средств» при обращении в православие, ни преследования тех, кто не захочет стать ее членом, «поступая по образу проповеди Апостольской». Но переход из одного нехристианского вероисповедания в другое законодательно был запрещен. Согласно принятому в 1822 г. «Уставу об управлении инородцами» кочующие иноверцы пользовались свободой в вероисповедании и богослужении, а православное духовенство, обращая аборигенов в православие, должно было действовать кротко, без принуждения, одними убеждениями.
Конечно, практика миссионерской деятельности и обращения «инородцев» в христианство подчас разительно отличалась от того, что предписывали законы. Подчас епархиальные органы стремились привлечь к своей миссионерской работе государственные органы, опереться на силу принуждения. Так, Тобольский архиепископ Георгий в 1849 г. требовал от генерал-губернатора Западной Сибири П.Д. Горчакова пресечь в некоторых местах Березовского округа деятельность шаманов. Любопытно, что губернатор отверг претензии церковного руководства, указав, что «согласно ст. 98 Устава о предупреждении и пресечении преступлений, сибирские инородцы, не исповедывающие Христианской веры, имеют свободу отправлять богослужение по их обрядам и обычаям и им дозволяется, в отдалении от церквей, иметь приличные места для моления». Генерал губернатор считал также, что гражданское начальство «не вправе принимать меры к воспрещению им следовать вере предков, тем более что склонение их к принятию христианской веры мерами кротости, без малейшего принуждения, относится … до власти Духовной» .
В конце XIX в. правила обращения из язычества в православие изменилось в сторону более строгого соблюдения добровольного принятия православия. При крещении совершеннолетних аборигенов с них в присутствии двух грамотных свидетелей необходимо было брать подписку об искреннем их желании принять христианскую веру. Установлен был и образец такой подписки:
«Я, нижеподписавший тамгу остяк Обдорской волости Панакоче роду Солинтер, старшины Сямми, дал сию подписку в том, что искренне желаю присоединиться к Греко-Российской Православно-Восточной церкви и обещаю всегда пребывать в верности ей неизменно.
Остяк Панакче Солинтер (здесь прилагается тамга)
При сем присутствовали:
Самоедин Обдорской волости старшина Вэнда
Григорий Мартемианов
остяк Василий Ядон
В крещении Панакче назван Симеоном (15 лет)
Крещение совершали:
Иеромонах Василий
псаломщик Мартемиан Мартемьянов.
1901 года, января 24 дня« .
Брачное право новокрещенных тоже было регламентировано. В 1834 г. был принят закон, по которому супруг, принявший православие, при желании мог расторгнуть брак, если другой супруг остался в иноверии. В случае, если супруги желают продолжить брак, он будет считаться законным, но родившиеся у них дети должны быть крещены и воспитываться в духе православия.
В процессе христианизации правительство для новокрещенных создавало ряд льгот и наград. По закону 1826 г. аборигены, принимающие крещение, освобождались от уплаты ясака на три года. Что касается наград, правила, разработанные для причта походной Обдорской церкви св. Апостолов Андрея Первозванного и Петра Петроверховного и утвержденные Синодом 14 июля 1856г., предусматривали выдачу для каждого крестившегося «инородца» креста и рубашки. Выдача первоначально производилась за счет Обдорской церкви. Впоследствии истраченная сумма возмещалась за счет епархиальной казны.
В уголовном законодательстве Российской империи также была введена льгота для лиц, принимающих христианскую веру. По закону, при совершении некоторых проступков: «малое воровство, ссоры, драки и тому подобное», при принятии христианской веры «иноверцы» освобождались от наказания. Но если обвиняемые совершали более тяжкие преступления, то принимаемые решения о их наказаниях предоставлялись в Сенат. В 1862 г. уголовным законодательством было предусмотрено смягчение наказания за какое либо преступление или проступок, если «иноверец нехристианского вероисповедания во время следствия или суда примет православие или другую терпимую и признаваемую законною в Империи христианскую веру».
Для «инородческого» населения Сибири российское законодательство делало ряд исключений и предписывало соблюдать «некоторые особые правила». Духовенству запрещалось подвергать аборигенов каким-либо наказаниям, если они «по невежеству будут опускать церковные службы и обряды или по местным причинам не будут соблюдать некоторых церковных установлений, как, например, по недостатку постной пищи или по неразумению не будут соблюдать постов и т. п.».
По ходатайству Тобольского епископа Авраамия Синод в 1889г. издал указ о разрешении миссионерам венчать браки аборигенов в Петровский пост. В это время миссионеры разъезжали по кочевьям аборигенов с походной церковью. В 1900г. вышел указ Синода за № 2636, который разрешал членам Обдорской миссии венчать браки новообращенных аборигенов, приезжающих в с. Обдорское в период Рождественского поста.
Таким образом, Русская православная церковь, продолжая политику христианизации Северо-Западной Сибири и в том числе аборигенов полуострова Ямал, все более отчетливо придавала ей государственный характер. Основными правовыми формами, с одной стороны, становились принципы веротерпимости, с другой - усиление административных и религиозных мер к вовлечению «инородцев» в православную веру.
Список литературы
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.rusoir.ru/
Еще из раздела Религия и мифология:
- Доклад: Церковь св. Полиевкта в Константинополе и ее декоративная программа